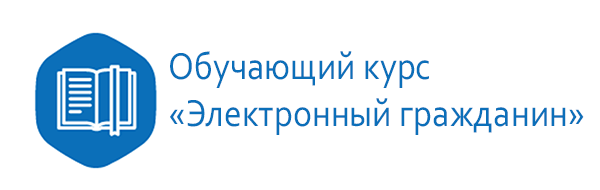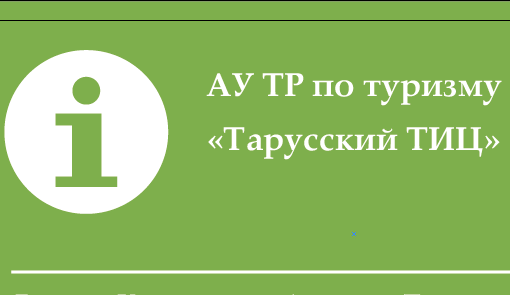Портрет
(Продолжение. Начало – в прошлом номере «Октября»)
Я погладила бабушку по спине, успокаивая, а она, как ребёнок, прижалась ко мне. Я её не торопила: она расскажет мне и об этом, но позже. У нас впереди много времени! Так я наивно думала.
- Я ведь грамоте была обучена, готовилась поступать в женскую гимназию в Ставрополе, - продолжала бабушка под внимательный скрип колеса. - Со мной занимался учитель - из бывших студентов («Не доучился не по своей воле, - объяснял нам отец. - Слишком вольно мыслит».) Этот студент, Миша, и рисовать меня учил. Но я к этому неспособная оказалась. А вот писать - любила.
- Так это он автор твоего портрета! - догадалась я.
- Да, Миша. Его я тоже потеряла после того, как замуж вышла, а он в Москву уехал.
- Давай его поищем, - предложила я. На это бабушка почему-то ничего не ответила, привела в движение замершее на минуту колесо прялки и продолжила рассказ.
Замужество
- Мне было тринадцать лет, когда отец заболел и умер. Всё большое хозяйство, дом, родственники, о которых заботился отец, по наследству перешло к маме. Учиться я не поехала.
В пятнадцать лет я познакомилась с красавцем Алексеем. Полюбила его. Пришли сваты от него, но мама не дала согласия: хоть его семья и была зажиточной, но «из простых» и «ветреный он какой-то». Но всё-таки удалось её уговорить. Мама и приданое дала. Но долго меня видеть не хотела: простить не могла, что ослушалась. Она-то готовила мне другую партию: сына обедневшего помещика дворянских кровей.
Стали мы жить с родителями мужа. Достаток, дом большой - в два этажа. Но муж мой оказался непутёвым. Родилась у нас дочь Тоня, а мужа уж и дома в ту пору не было. Не жил он с нами. Я и не знала, где он. Свекор и свекровь молчат, но, думаю, знали, где их сын. Меня они любили, а внучку свою единственную баловали.
Жил в нашем посёлке вдовец, троих дочерей имел. Красавец: волосы густые, чуб на середину лба, усы молодецкие. Да и работящий, серьёзный. Приглянулась я ему. Стал ухаживать, а я - бегать от него: мужняя жена. Да и старше он меня был на десять лет. Но врать не буду: сердце млело, когда видела его.
Пришло время, говорю свёкру и свекрови: «Меня Андрей Иванович замуж зовет». А свекровь: «У него же трое. Батрачить будешь». Я в слезы: «Люблю его». Тогда свекор сказал: «Иди к мужу, спроси, будет ли он с тобой жить». Нашла я его в одном селе. А у него там уж ребёнок, не венчанные живут. Грех-то какой. Сказал он, что здесь останется, а меня не неволит.
Тогда свёкор дал согласие. И свадьбу они мне справили. Моё приданое вернули и своего добра добавили; корову подарили, чтобы у внучки молоко было. И сказали, когда помрут, дом и хозяйство мне отпишут, а не беспутному сыну. Только попросили они портрет мой оставить у них, пока они живы. Очень уж он им нравился. Мама моя на свадьбе была, гордая сидела, но иногда так тяжко головой покачивала.
Стали мы с Андрюшей жить. Неприветливо встретили меня его дочки, особенно старшая, Анна. Это и понятно - мачеха. Родились у нас еще две девочки, итого теперь шесть дочерей.
Я дома весь день кручусь, Андрюша на заработки ходил и по хозяйству помогал. Большой сад у нас был, живность всякая, несколько лошадей да корова.
Придёт он домой, а Анна (ей почти десять было) всегда жаловалась, что, мол, мачеха и есть не дает, и бьёт её. А муж не мог поверить в это, но видела: сердится. Да и как не поверить, когда дочь-то говорит. А она весь день спокойная ходит, играет, а перед его приходом плакать начинает. Я не обижалась - она же по матери своей тосковала. Я не перечила мужу, продолжала ухаживать за девочками.
Потом-то Андрюша понял, что обманывает его дочь. Пришел как-то раньше обычного, и видит: я всех одинаково пирогами кормлю, старшей - побольше кусок положила. Да и младшие его дочки всю правду рассказали - меня они уж матушкой стали называть.
А позже - колхоз, все у нас забрали. Андрюша говорил: «Хорошо, что не вспомнили, каких ты кровей». Ох, Верочка, потом голод, война. Давай я тебе об этом завтра расскажу. Пойдём чай пить! У меня уж и пирог поспел.
Развязать узелки
Закружила судьба непростым веретеном, запутала петли, спрятала их от глаз с изнанки - не понять, где начало и конец замысловатых переплетений.
У меня нет прялки, я не владею крючком и спицами. Но мне так хочется развязать все узелки и, не распуская бабушкиного кружевного воротничка, один за другим разгадывать смысл плетения жизненных узоров.
Я собираю воедино все, что помню, что рассказывали мои дорогие люди, чтобы не исчезло это в лабиринте времени моей семьи, чтобы звучал голос бабушки из её простых рассказов о непростой жизни. Так, как он звучит во мне.
- В августе, если не ошибаюсь, в тот год, когда у нас Надюша родилась, седьмая дочка, вышел закон или указ, который называли «семь восьмых», по которому за стрижку колосков жита полагалось десять лет лагерей. А голод... Дети плачут. Дедушка твой в это время работал бригадиром в колхозе. Уважали его за трудолюбие и честность. Но наступил момент, когда и он не выдержал. Дети от голода пухнут. Двухлетняя Наденька плачет, есть просит. Я ей водички - а у нее рвота. Заболела она.
Пришёл вечером Андрюша, задвинул занавески, снял сапоги и высыпал зерно - две горсточки. Если бы кто узнал, отправили бы в ссылку, а могли и расстрелять. Годы такие были.
Я пшеничку мельничкой перемолола, траву-лебеду добавила и испекла лепешку, а крупинки от зёрен и остатки муки по бокам мельнички на суп пошли. А Наденька наша вскоре умерла.
Потом война. Андрюшу в армию не взяли по возрасту. Мне он ничего не говорил, но я знала, что он помогал людям, которые прятались от немцев в лесу. Что за люди - он так и не рассказал.
В доме у нас поселились фашисты. Правда, в нашем поселке находились не немцы, а венгры. Мы жили в сарайчике, опять голодали. Каждый раз я ложилась спать и думала, чем же детей кормить. А их шестеро и приёмный сын Тимоша. Его родителей немцы убили, остался он сиротой. Вот мы его к себе и взяли.
В огороде росла картошка, но нам нельзя было её копать - венгры сами её ели. А я соберу очистки (дети, радуйтесь - у нас есть еда!), которые они выбросят, и суп сварю. Травы-лебеды нарву, жмых у постояльцев подберу - лепешку испеку. Черная, словно сырая внутри, а дети говорят: «Смотри - это ржаной хлеб с вкусной корочкой и ароматным мякишем в середине». Я плакала, а они меня утешали.
Свекор со свекровью (это от первого мужа, Андрюша-то сирота) слабые стали от голода, совсем сдали. Мы с детьми им помогали. Уже после войны они умерли. А дом, как и обещали, мне оставили. Мы, когда на Волгу переезжали, оставили его приёмному сыну, который к тому времени женился. Все, Верочка, устала я.
- Бабушка, а где второй портрет?
- Тот, который у родителей был? На нём фамилия Миши написана в уголке. После смерти мамы я его забрала: он и висел на стене, когда венгры у нас жили. Один из них, видимо, художником был. Все с карандашом и блокнотом ходил. Он твою маму нарисовал. Все цокал языком, когда видел Любочку. Ей всего восемь лет, а уже красавица: кожа белая, волосы черные, глаза зеленые.
Когда они спешно бежали, забрал он со стены мой портрет и Любочкин. Я плакала, просила оставить. Да что толку.
А этот, что сейчас дома, после смерти свекра и свекрови ко мне вернулся.
Благословение небес
Прости меня, бабушка! И мы не сохранили твой портрет в переездах-кочевьях. Когда мама уезжала с детьми на Север, оставила все вещи на хранение соседке и деньги на их пересылку. Просила: «Устроюсь на новом месте, ты тогда отправь их мне, пожалуйста». Но так и не получила ни свои книги, ни ковры, ни посуду, ни альбомов с фотографиями. Ни портрета бабушки. И я его ищу уже много лет.
Когда Мария позировала художнику, на её плечо села божья коровка. И она, и художник стали смеяться. А потом Миша сказал: «Это Бог нас благословил. Это его послание». А Мария промолчала. И тогда Миша вместо своего имени в правом углу картины нарисовал божью коровку. Этот портрет я и увидела, когда мне было пять лет.
Мила СУРКОВА.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии